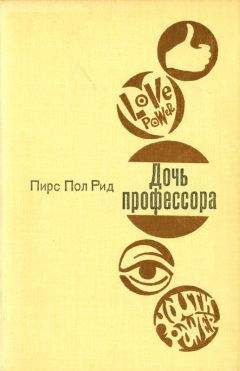Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]
Лицо Марьяна, тонкое, сухое, как перышко льда в предзимнем оттиске копытца, скользнуло перед ней на миг, отошла тихая зовущая улыбка, и все вокруг нее — зеленые поля, черные лоскуты пашни с маслеными пятнами солнца, выбежавшие на пригорок одуванчики — медленно закружилось в сеющейся с неба золотой пыли, и вынимало душу оттого, что земная весенняя благодать явилась к ней слишком поздно: Марьян звал ее, и она спешила… Внутри себя она уже переступала ею же самой проведенную черту, но прошлое еще томило ее, и, видно, так было угодно судьбе, что из скучной чреды не отличимых одна от другой ночей ей предстала та — в удивительно ясном расположении подробностей.
Сама ночь, собственно, мало чем отличалась от других, и, когда на подворье, на хлевы, пахнущие навозом, талым снегом, опарной землей, пала тьма, она, чувствуя во всем теле валящую с ног усталость — от тех самых хлевов, от лопаты, вил, ведер, чугунов, — с тупой досадой подумала, что в сенной каморке поспела закваска и надо варить самогон. Занятие это всегда воротило ей душу, но жизнь давно убила в ней зачатки какой бы то ни было воли, и, когда хозяйка напомнила, чтоб готовила котел, она покорно пошла в хлев за соломой.
Она принесла большую охапку и принялась за знакомое ей дело: перевалила над котлом с трудом поднятую кадушку — хлынула густая квашня. Половина кадушки осталась, да она и знала, что придется заливать второй раз и, стало быть, дела до самого утра. Потом она, отводя лицо от идущего из котла тяжелого, кислого винного духа, облепила деревянную крышку житным тестом и, устроившись перед печуркой, стала зажигать и зажигать одно от другого беремечки длинных стеблей соломы, медленно обводя огнем круглое черное днище котла, чтоб, боже упаси, не подгорело или не сорвало крышку… Иногда она засыпала от одуряющего однообразия того, что делала, от тягуче текшей в ней тоски, но спохватывалась, брала новый пучок длинной, отобранной к этому случаю соломы, и все шло прежним чередом, пока по живому утробному движению в котле, в спиральных сплетениях нагревшихся медных трубок не поняла, что скоро пойдет проклятое зелье…
Уже светало, когда хозяйка вошла в каморку, оглядела наполненные сулеи: «Може, сывый туман ходить?..» — «Ни, як слеза…» Но еле переставлявшая ноги наймичка все же не понравилась ей: «Повзаешъ, як та муха на спаса!» Мучило хозяйку: другой уже не найти на селе за кусень хлеба — в колхоз пишутся, эта, мужа кинувшая, до всего допущена, а что на уме — разберись. Дознаются про самогон — оберут до зернины: уполномоченные из города так и валят… Но наймичка поняла хозяйское замечание так, как ей и должно было понимать, и стала вычерпывать да выносить горячую брагу.
Старший хозяйский сын, чем-то очень напоминавший ей Пантелея, только продрал глаза, сразу учуял вожделенный дух и, подождав, когда мать уйдет к скотине, нырнул в каморку с надеждой снять пробу с первака. Но он увидел простоволосую, распаренную от котла наймичку, позабыл, зачем пришел, и задвинул засов на двери. В каморке стоял скоромный банный жар, и сердце у нее покатилось, ощутив обуявшую хату тишину, опасную близость застланной ряднами лежанки… Слабея от этой непроницаемой, мертвой тишины, она все же отрывала жадные руки, отслаивавшие кофту от ее потного тела.
Это был Пантелей, Пантелей, его руки, его дышащий перегаром рот. Сознание какой-то расплаты душило ее, и она не сразу поняла, почему рядом стоит Марьян, кусая четко очерченные юные губы. Только болтающийся на двери засов с обнаженными гвоздями вернул ей рассудок, и ноги у нее подкосились от простреленных болью Марьяновых черных глаз. Этот, который был очень похож на Пантелея, кривя рот в дурной ухмылке, боязно сторонясь рослой, напряженно застывшей фигуры брата, выскользнул в сени… Она подумала, что Марьян сейчас ударит ее и она приняла бы это как должное, но в его глазах было все то же страдание, и она вспомнила, что не однажды ловила на себе этот страдающий взгляд, и чем-то благодарным, теплым наполнилась грудь.
Потом все лето длилась в ней тихая, смиренная радость…
И летели над желтыми жнивами голубые нити паутины, щекоча, касались ее лица, когда они с Марьяном возили солому с поля. Осень была теплой, и в безлюдном поле им ничего не стоило затеряться в золотых ворохах, и, чувствуя свое красивое молодое тело, она бескорыстно жертвовала собой, и, если бы ей сказали, что бог накажет ее, даже это не остановило бы в ней проснувшейся бабьей нежности. Ее бог и ее властелин был здесь, рядом, она все прощала и себе и Марьяну, и, когда, он выхватил из повозки необычно короткую винтовку, выцеливал кричащего над жнивьем канюка, никакая тревожная догадка не толкнулась в ее сердце — перед ней был ее бог!
Оборвав тоскливый крик, упала в жнива птица, два перышка долго держались в голубом небе.
Часть третья
Война была еще далеко, но и оттуда находила и находила на огромный город, терзая, погружая в грохот, в крики, в кровь, в неживой смрад. Сначала на город издали наплывал отвратительный вибрирующий гул, и вслед за ним высоко сияющие облака разрывало стадо крестообразного железа, и возникающая под ним темная, беспорядочная осыпь, становясь невидимой, со свистом и скрежетом падала на пустые, цепенеющие в солнечном свете улицы, на воздетые к небу соборные купола, на фанерные киоски мороженщиц, на голосящую паровозами станцию, на детские площадки с налепленными из песка корзинками; земля и дома тяжело вздрагивали, выбрасывали к небу комья кирпича, стекла, асфальта, и оно, уже разорванное, крошилось, сгорало, черные дымы снова и снова застилали солнце, и на город осыпался удушливый сухой прах. Город, оспенно чернея воронками, изнемогая, через свою боль щетинился дулами зениток. «Тах, тах, тах, тах!» — клокотало в разных концах, к ревущим табунам пунктирно протягивались тонкие жала, и тогда табуны тяжело брели за Днепр. Владимир с немым гневом глядел им вслед, грозя своим крестом, и вскоре такие же нечеловеческие звуки, только скрадываемые расстоянием, доносились откуда-то от Броваров, будто это не могло затихнуть эхо того, что творилось здесь, на холмах Киева.
Время, как небо, было разорвано, был разорван привычный уклад тихого дворика на Соляной. Уходили на войну Константин Федосеевич с Васильком. Отец глядел на Марийку тихими, виноватыми глазами, и душа ее не понимала, не принимала того, что вершилось, и тем больнее был уход отца. Марийка чувствовала: кто-то огромный и злой отрывает ее от этих сильных, дорогих отцовских рук, которые удерживали ее на катере, когда она, счастливо смеясь, падала за борт и взметывалась из-за него легкой птицей, и высокие облака стремительно летели ей в забрызганное утренней водой лицо. И она отвергала то, перед чем была бессильна…
Василек шел на войну с каким-то нервным восторгом, глаза его поблескивали нетерпеливой жаждой схватки, когда он затягивал свой заплечный мешок. Только если в обрывках напутственных разговоров упоминались Сыровцы, он замолкал: повестка в армию не отпускала ему и дня для того, чтобы проведать Грицька с Настей, сказать последнее перед дорогой слово, — только это вносило разлад в его жаждущую действия душу. Да вот еще Зося… Василек метался между ее домом и домом, который дал ему свой кров, а Зося ходила заплаканная, потерянная, огненные ее волосы, всегда собранные в пышную прическу, некрасиво, бесформенно свисали. Марийке было жалко Зоею… Не Василька, который уходил на войну, а Зоею, остававшуюся дома.
Но еще жальче было дядю Ваню…
Бывало, в беседах с Константином Федосеевичем, в которых нет-нет да и засквозит предчувствие надвигающейся грозы, дядя Ваня собирал на лбу тяжелые складки и говорил:
— Эх, Костя, твое дело молодое, тебя забреют сразу. Ну и я еще повоюю… Не возьмут — сам пойду: пару носок — и ходу.
Почему именно пару носок должен был взять с собой дядя Ваня, Марийка не понимала, но, видимо, это имело какой-то смысл, раз так говорил дядя Ваня.
И в общем-то, как в воду смотрел старый матрос. В одном ошибся. Незадолго до того как разразиться грозе, дядя Ваня, и раньше маявшийся ногами, слег окончательно и теперь не показывался не только на улице, почитавшей его как некую достопримечательность, но и на своем обычном месте — на лавочке возле домика. В растерзанных тревожных днях о нем как-то позабыли, только Марийка заскакивала к нему и была вроде вестового между дядей Ваней и тем миром, от которого его жестоко, несправедливо отрезала болезнь. Она подходила к нему, бесформенной неподвижной горой возвышавшемуся на кровати, садилась рядом, он брал ее руки в свои большие, сохранившие силу ладони.
— Что там? Опять бомбят? Слышал, бомбят…
Глаза у него, как у ребенка, наполнялись влагой, одутловатое, посиневшее лицо обидно и беспомощно морщилось. Он спрашивал Марийку, кто с их улицы ушел на войну. Марийка перечисляла, дядя Ваня скрипел зубами.